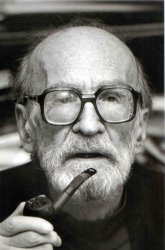
МИФЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА
Мирча ЭЛИАДЕ
Что же такое на самом деле миф? На языке восемнадцатого века "мифом" считалось все, что выходило за рамки "реальности": сотворение Адама или человек-невидимка, а также история мира, рассказанная зулусами, или "Теогония" Гесиода - все это были "мифы". Подобно многим другим клише эпохи Просвещения и Позитивизма, они также имеют христианское происхождение и структуру, так как согласно примитивному христианству все, что не могло быть оправдано ссылкой на один или другой Завет, было неверным, было "выдумкой". Однако исследования этнологов заставили нас пересмотреть такое семантическое наследие христианской полемики, противостоящее языческому миру. Мы, наконец, начинаем осознавать и понимать то значение мифа, которое было заложено в него "примитивными" и архаическими обществами, то есть теми слоями человечества, где миф является истинной основой общественной жизни и культуры. И теперь сразу же бросается в глаза следующий факт: в таких обществах считалось, что миф передает абсолютную истину, так как повествует священную историю, то есть стоящее выше человека откровение, имевшее место на заре Великого Времени, в священное время начал. Будучи реальным и священным, миф становится типичным, а следовательно и повторяющимся, так как является моделью и, до некоторой степени, оправданием всех человеческих поступков. Другими словами, миф является истинной историей того, что произошло у истоков времени, и предоставляет образец для поведения человека. Копируя типичные поступки бога или мистического героя, или просто подробно излагая их приключения, человек архаического общества отделяет себя от мирского времени и магическим образом снова оказывается в Великом священном времени.
Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с полной перестановкой ценностей, в то время как современный язык путает миф с "выдумкой", человек традиционных культур видит в нем единственно верное откровение действительности. С тех пор как было сделано это заключение, прошло немного времени. Постепенно мы перестали настаивать на том факте, что миф повествует о невозможном и невероятном, мы стали довольствоваться утверждением, что он представляет собой образ мышления, отличный от нашего, и что в любом случае мы не должны априорно относится к нему как к заблуждению. Мы пошли еще дальше, попытались интегрировать миф, рассматривая его как наиболее значительную форму коллективного мышления в общей истории мысли. И так как коллективное мышление ни в одном обществе никогда полностью не отрицается, независимо от уровня его развития, мы не могли не увидеть, что современный мир все еще сохраняет следы мистического поведения: например, принятие всем обществом некоторых символов интерпретируется как сохранение коллективного мышления. Несложно показать, что функция национального флага со всем тем, что он подразумевает, совсем не отличается от "принятия" любого из символов архаических культур. Это все равно, что сказать: в плоскости общественной жизни нет разрыва в последовательной смене архаического и современного миров. Единственное значительное различие заключалось в наличии у большинства индивидуумов, составляющих современное общество, персонального мышления, которое отсутствовало, или почти отсутствовало, среди членов традиционных обществ.
Здесь не место начинать обсуждение общих положений, поднимаемых "коллективным мышлением". У нас более скромная задача: если миф не просто инфантильное или заблуждающееся творение "примитивного" человечества, а изображение формы бытия в мире, то что же можно сказать о мифах нашего времени? Или более конкретно: что же теперь встало на то существенное место, которое занимает миф в основанных на обычае культурах? Даже если некоторые мифы и совокупные символы все еще "принимаются" в современном мире, они далеки оттого, чтобы выполнять центральную роль, которую они играют в традиционных обществах; в сравнении с последними наш современный мир кажется лишенным мифов. Существует даже мнение, что все болезни и кризисы современного общества вызваны отсутствием соответствующей мифологии. Когда Юнг озаглавил одну из своих книг "Современный человек в поисках души", он подразумевал, что современный мир, находящийся в кризисе со времени своего глубокого разрыва с христианством, находится в поисках нового мифа, который позволит ему черпать из новых духовных источников и обновит его созидательные силы. (Под "современным миром" мы понимаем современное западное общество и определенное состояние ума, которое формировалось последовательными вкладами, начиная с эпохи Возрождения и Реформации. В этом смысле, проявляющие активность классы городского населения являются "современными" - то есть той частью человечества, которая была более или менее непосредственно сформирована образованием и существующей культурой. Остальная часть населения, особенно в центральной и юго-восточной Европе, все еще сохраняет свою приверженность к традиционной и полухристианской духовной вселенной. Культуры сельскохозяйственного уклона, как правило, пассивны по отношению к истории; в большинстве своем они просто переживают ее, а когда сами оказываются прямо вовлеченными в великие исторические события (как, например, нашествия варваров в древности), то отвечают на них лишь пассивным сопротивлением.)
То, что, по крайней мере с первого взгляда, современный мир не богат на мифы, верно. Так, например, о всеобщей забастовке говорилось как об одном из редких мифов нашего времени. Но такое понимание было неправильным: предполагалось, что идея, доступная значительному числу людей, а значит "популярная", может стать мифом по той простой причине, что ее осуществление предполагается в более или менее отдаленном будущем. Но мифы "возникают" не так. Всеобщая забастовка может быть инструментом политической борьбы, но мифологических прецедентов у нее нет, и лишь одного этого достаточно, чтобы лишить ее мифологического статуса.
Совсем другое дело с коммунизмом Маркса. Давайте оставим в стороне все вопросы философской обоснованности марксизма и его исторической судьбы и рассмотрим лишь мифологический образчик коммунизма и эсхатологическое значение его популярности и успеха. Что бы мы ни думали о научных притязаниях Маркса, ясно, что автор "Коммунистического манифеста" берет и продолжает один из величайших эсхатологических мифов Средиземноморья и Среднего Востока, а именно: спасительную роль, которую должен был сыграть Справедливый ("избранный", "помазанный", "невинный", "миссионер", а в наше время - пролетариат), страдания которого призваны изменить онтологический статус мира. Фактически бесклассовое общество Маркса и последующее исчезновение всех исторических напряженностей находит наиболее точный прецедент в мифе о Золотом Веке, который, согласно ряду учений, лежит в начале и в конце Истории. Маркс обогатил этот древний миф истинно мессианской иудейско-христианской идеологией: с одной стороны - пророческой и спасительной ролью, которая приписывается пролетариату, и с другой - решающей битвой между Добром и Злом, заканчивающейся решительной победой Добра, что вполне можно сравнить с апокалипсической борьбой между Христом и Антихристом. Действительно, важно, что Маркс обращает себе на пользу иудейско-христианскую эсхатологическую веру в абсолютную цель истории; и в этом он расходится с другими историческими философами (например, с Кроче, Ортегой-и-Гассетом), которые считают, что исторические напряженности присущи человеческой натуре, и поэтому от них никогда нельзя будет полностью избавиться.
В сравнении с пышностью и бодрым оптимизмом коммунистического мифа, мифология, проповедуемая национал-социалистами, кажется странно несостоятельной; и не только в связи с ограниченностью расового мифа (как можно представить, что остальная Европа добровольно подчинится господствующей расе), а, главным образом, из-за фундаментального пессимизма германской мифологии. В своей попытке отбросить христианские ценности и восстановить духовные истоки "расы", то есть нордического язычества, нацизм был вынужден попытаться оживить германскую мифологию. Но с точки зрения психоанализа, такая попытка была, фактически, приглашением к коллективному самоубийству, так как эсхатон, проповедуемый и ожидаемый древними германцами, был ничем иным, как рагнареком, то есть катастрофическим концом света. Это включало в себя гигантскую битву между богами и демонами, заканчивающуюся гибелью всех богов и всех героев и окончательной регрессией мира к хаосу. Верно, что после рагнарека мир должен был возродиться обновленным (древним германцам также была известна доктрина космических циклов и миф о повторяющихся сотворениях и разрушениях мира). Тем не менее, поменять христианскую мифологию на нордическую означает сменить богатую на утешения и обещания эсхатологию (так как у христиан "конец света" завершает и в то же самое время возрождает историю), на откровенно пессимистический эсхатон. В переводе на язык политики эта замена почти равнозначна словам: "Оставьте свои старые иудейско-христианские сказки и воспламените в глубинах души верования своих германских предков; затем приготовьтесь к последней великой битве между нашими богами и демоническими силами. В этой апокалипсической битве наши боги, наши герои и с ними мы сами погибнем. Это будет рагнарек, но позже родится "новый мир". Удивительно, как такое пессимистическое видение конца истории смогло зажечь воображение даже части Германского народа; и тот факт, что это действительно было так, все еще ставит проблемы перед психологами.
Кроме этих двух политических мифов, современное общество, похоже, не имеет других, сравнимых с ними по значимости. Мы рассматриваем миф как тип человеческого поведения, и в то же время как элемент цивилизации, то есть таким, каким он есть в традиционных культурах. На уровне индивидуального восприятия миф никогда полностью не исчезал: он проявлялся в сновидениях, фантазиях, стремлениях современного человека. Многочисленная психологическая литература приучила нас к раскрытию больших и малых мифологий в бессознательной и полусознательной деятельности каждого индивидуума. Но сейчас нас более всего интересует, что же в современном мире стоит на том центральном месте, которое в традиционных культурах занимает миф. Другими словами, понимая, что великие мифические темы продолжают повторяться в смутных глубинах психики, мы все еще не перестаем интересоваться - сохранился ли миф как образец человеческого поведения в более или менее деградированной форме среди наших современников. Похоже, что сам по себе миф, как и символы, которые он приводит в действие, никогда полностью не исчезал из настоящего мира психики; он просто меняет свой аспект и маскирует свои действия. Не будет ли поучительным продолжить наши исследования и раскрыть действие мифов на социальном уровне?
Вот один пример. Ясно видно, что некоторые празднества, отмечаемые в современном мире и внешне являющиеся чисто мирскими, все же сохраняют мифологическую структуру и функцию. Празднование Нового года или торжества, связанные с рождением ребенка или постройкой нового дома, или даже переезд в новую квартиру - все они демонстрируют смутно ощущаемую потребность в совершенно новом начале, то есть полного возрождения. Как бы ни были далеки эти мирские торжества от своего мистического архетипа - периодического повторения сотворения - тем не менее, очевидно, что современный человек все еще ощущает потребность в периодическом проигрывании таких сценариев, какими бы секуляризованными они не стали. Нет возможности определить, насколько глубоко современный человек все еще осознает мифологическую основу своих празднеств; для нас важно то, что такие торжества все еще имеют в его жизни хоть и смутный, но глубокий резонанс.
Это всего лишь один пример; однако он может просветить нас в отношении того, что называется общим положением вещей. Некоторые мифические темы все еще сохранились в современной культуре, однако их нелегко распознать, поскольку они подверглись длительному процессу секуляризации. Это было давно известно: действительно, современное общество можно определить как общество, которое довольно далеко завела секуляризация жизни и Космоса. Новизна современного мира состоит в переоценке древних священных ценностей на светском уровне.
Мы, однако, хотим выяснить, осталось ли в современном мире что-нибудь еще из "мистического", кроме того, что просто представляет собой образ действия и ценности, по-новому интерпретированные, чтобы соответствовать мирскому уровню. Если бы все явления подпадали под такое описание, мы должны были бы согласиться с тем, что современный мир радикально противостоит всем историческим формам, которые предшествовали ему. Но такую гипотезу исключает само наличие христианства. Христианство не признает никаких секуляризованных взглядов на космос или жизнь, характерных для "современной" культуры.
Поднимаемый при этом вопрос не прост. Но так как западный мир или его большая часть все еще настаивает на своей принадлежности к христианству, избежать этого вопроса нельзя. Я не буду останавливаться на том, что в настоящее время называется "мифическими элементами" в христианстве. Что бы ни говорилось по поводу этих "мифических элементов", они уже давно приобщены к христианству, и в любом случае значение христианства должно рассматриваться в другой перспективе. Но время от времени звучат голоса, утверждающие, что современный мир, или уже или еще, не является христианским. Имея в виду поставленную перед нами задачу, нет необходимости касаться тех, кто возлагает свои надежды на демифологизацию, кто считает необходимыми "демифилогизировать" христианство с целью восстановления истины, составляющей его сущность. Некоторые считают совсем наоборот. Так, например, Юнг полагает, что кризис современного мира в значительной мере вызван тем фактом, что христианские символы и "мифы" больше не воспринимаются всем человеческим существом, что они сократились до слов и жестов, лишенных жизни, закосневших, объясняющихся внешними обстоятельствами и поэтому не играющих никакой роли в глубинной жизни психики.
Для нас вопрос представляется иначе: до какой степени в современном секуляризованном и светском мире христианство сохранило духовный горизонт, сравнимый с таковым у архаических культур, в которых господствовал миф? Давайте сразу же отметим, что христианству нечего бояться такого сравнения; его специфичность застрахована, гарантирована верой как уникальной категорией религиозного мироощущения и расстановкой своих ценностей в истории. За исключением иудаизма, никакая другая дохристианская религия не давала такой оценки ни истории как прямому и необратимому проявлению бога в миру, ни вере как единственному средству спасения (имеется в виду вера, исходившая от Авраама). Поэтому христианская полемика, направленная против религиозного мира язычества, исторически говоря, является устарелой: христианству больше не грозит опасность быть спутанным с какой-либо иной религией или гностической школой. Отметив это, и ввиду довольно недавнего открытия, что миф предоставляет определенный образ поведения в мире, не менее верным является то, что христианство благодаря лишь одному тому факту, что является религией, должно сохранять, по меньшей мере, одну мифическую позицию - позицию в отношении литургического времени, то есть неприятие мирского времени и периодический возврат великого времени.
Для христиан Иисус Христос не является мифической личностью, наоборот, он является историческим персонажем; само его величие основано на абсолютной историчности. Христос не просто сделал себя человеком, "человеком вообще", но и принял историческое положение тех людей, среди которых избрал родиться. И ему нет необходимости прибегать ни к какому чуду, чтобы избежать этой историчности - хотя он сотворил множество чудес, для смягчения "исторического положения" других, поднимая паралитиков и исцеляя прокаженных. Тем не менее, религиозное мировосприятие христиан основывается на подражании Христу как типичному образцу, на литургическом повторении жизни, смерти и воскрешения Господа и на совпадении времени христиан с временем, которое начинается с Рождества Христова в Вифлееме и условно заканчивается Вознесением. Теперь мы знаем, что введение человеческого образца, повторение типичного сценария и отход от мирского времени через миг, открывающийся в Великое Время, являются существенными признаками "мифического поведения", то есть поведения человека архаической культуры, который видит в мифе источник своего существования. Мы всегда оказываемся современниками мифа, когда повторяем его или подражаем жестам мифических персонажей. Требованием Киркегора к истинному христианину было то, чтобы он являлся современником Христа. Но даже тот, кто, по Киркегору, не является "истинным христианином", все равно есть и не может не быть современником Христа, так как литургическое время, в которое христианин живет на протяжении богослужения, уже больше не просто мирское, а в сущности своей священное время, время, когда Слово становится плотью. Христианин не принимает участия в поминовении крестных мук таким же образом, как, например, присоединяясь к ежегодному празднованию Четвертого Июля или Одиннадцатого Сентября. Он не отмечает событие, а воссоздает таинство. Для христианина Иисус умирает и воскресает перед ним здесь-и-теперь.
Через Крестные Муки или Воскрешение христианин рассеивает мирское время и вливается во время изначальное и священное.
Нет необходимости останавливаться на радикальных отличиях, разделяющих христианство и архаичный мир: они слишком очевидны для того, чтобы вызывать размолвки. Остается лишь идентифицировать только что упомянутое нами поведение. Для христианина, как и для человека архаичного общества, время не гомогенно: оно является субъектом периодических разрывов, которые разделяют его на "мирское" и "священное" время, причем последнее бесконечно обратимо, в том смысле, что оно повторяет само себя до бесконечности, не переставая быть одним и тем же временем. Сказано, что христианство, в отличие от архаических религий, провозглашает и ожидает конец Времени, что верно по отношению к "мирскому" времени истории, но не к литургическому, начинающемуся с единения божественного и человеческого в Иисусе Христе. С христианским временем не будет покончено с завершением истории.
Эти несколько поверхностные наблюдения показали нам, в каком именно смысле христианство пролонгирует "мифический" ход жизни в современном мире. Если мы примем во внимание истинную природу и функцию мифа, то окажется, что христианство не превзошло образ бытия архаического человека; оно и не могло этого сделать. Человек по природе христианин.
Остается, однако, выяснить, что же заняло место мифа у тех современников, у которых от христианства не сохранилось ничего, кроме мертвой буквы.
Кажется маловероятным, что любое общество может полностью расстаться с мифами, так как из того, что является существенным для мифического поведения, типичный образец, повторение, отрыв от мирского времени и вступление во время исконное - по меньшей мере, первые два являются существенными для любых человеческих обстоятельств. Поэтому совсем не сложно увидеть во всем, что современный человек называет обучением, образованием и дидактической культурой ту функцию, которую в архаическом обществе выполняет миф. И не только потому, что мифы представляют собой сумму родовых традиций и норм, которые важно не нарушить, но и потому, что их передача - обычно тайная, относящаяся к посвящению - более или менее эквивалентна "образованию" в современном обществе. Гомология соответствующих функций мифа и нашего публичного обучения очевиднее всего подтверждается при рассмотрении происхождения типичных моделей, которых придерживается европейское образование. В древности разрыва между мифологией и историей не было: исторические персонажи пытались подражать своим архетипам, богам и мифическим героям.
И, в свою очередь, жизни и поступки этих персонажей стали примером для последующих поколений. Левий уже собрал изрядное количество примеров подражания для молодых римлян, когда Плутарх написал "Жизнеописания" - настоящий кладезь примеров для последующих поколений. Моральные и гражданские добродетели этих персонажей продолжали снабжать европейскую педагогику высочайшими критериями, в особенности после эпохи Возрождения. Вплоть до конца девятнадцатого столетия европейское образование граждан все еще следовало архетипам классической древности, тем моделям, которые появились в тот привилегированный период времени, который образованные европейцы считают высшей точкой развития греко-латинской культуры.
Но они не думали о том, чтобы приравнять функции мифологии к процессу обучения, потому что упускали из виду одну из важнейших характеристик мифа, которая заключается в создании типичных моделей для всего общества. Более того, в этом мы признаем очень общую человеческую тенденцию, а именно: выставлять в качестве примера историю одной человеческой жизни и превращать исторический персонаж в архетип. Эта тенденция сохраняется даже среди наиболее выдающихся представителей научного мира. Как правильно заметил А.Жид, Гете считал, что жизнь нужно прожить так, чтобы она послужила примером для всего остального человечества. Во всем, что бы он ни делал, он старался создать пример. В свою очередь, в своей собственной жизни он подражал, если не богам и мифическим героям, то по меньшей мере их поведению. Поль Валери в 1932 году писал: "Он представляет для нас джентльменов человеческой расы, одну из наших самых успешных попыток представить себя в качестве богов".
Но такое подражание модельным жизням поощряется не только средствами школьного образования. Совместно с официальной педагогикой и длительное время после того, как она перестает оказывать свое влияние, современный человек подвергается влиянию сильнодействующей, даже если и рассеянной, мифологии, предлагающей целый ряд примеров для подражания. Реальные и воображаемые герои играют важную роль в формировании европейского юношества: персонажи приключенческих рассказов, герои войны, любимцы экрана и так далее. Эта мифология с течением времени постоянно обогащается. Мы встречаем один за другим образы для подражания, подбрасываемые нам переменчивой модой, и стараемся быть похожими на них. Писатели часто показывали современные версии, например. Дон Жуана, политического или военного героя, незадачливого любовника, циника, нигилиста, меланхолического поэта и так далее - все эти модели продолжают нести мифологические традиции, которые их топические формы раскрывают в мифическом поведении. Копирование этих архетипов выдает определенную неудовлетворенность своей собственной личной историей. Смутную попытку выйти за рамки своей местной провинциальной истории и снова очутиться в том или ином Великом Времени - будь то просто мифическое время первых сюрреалистов или манифеста экзистенциалистов.
Но адекватный анализ мифологий современного мира займет целые тома, так как секуляризованные мифы и мифологические образы, размытые и скрытые, обнаруживаются везде; необходимо лишь распознать их. Мы упоминали мифологическую основу празднования Нового года и торжеств, отмечающих любое "новое начало". В них мы снова можем различить ностальгию по обновлению, сильное желание к обновлению мира; желание войти в новую историю обновленного мира, то есть сотворенного заново. Не трудно привести многочисленные примеры этого. Миф об утерянном рае до сих пор сохраняется в образах райского острова или безгрешной земли, освобожденной земли, где законы упразднены, а время стоит на месте. Необходимо сказать, что мы можем проникнуть за личину мифологического поведения современного человека прежде всего анализируя его позицию ко времени. Мы никогда не должны забывать, что одной из существенных функций мифа является обеспечение входа в изначальное время. Это видно по тенденции игнорирования настоящего времени или того, что называется "историческим моментом".
Полинезийцы, пускаясь в великое морское плавание, старательно отрицают его "новизну", беспрецедентность и самопроизвольность; для них это лишь случай повторения путешествия, совершенного каким-либо мифическим героем, чтобы "показать путь", установить пример. Но такое современное отправление в плавание в качестве повторения мифической саги означает то же, что выбросить настоящее время из головы. Такое нежелание встать перед лицом настоящего, вместе со смутным желанием принять участие в каком-нибудь знаменитом, изначальном, абсолютном времени, иногда является отчаянной попыткой современного человека прорваться сквозь однородность времени, выйти "за пределы" его протяженности и снова вступить во время, качественно отличное от того, которое в своем течении творит свою собственную историю. Имея это в виду, мы сможем ответить на вопрос, что же стало с мифами в сегодняшнем мире. Современный человек при помощи многочисленных и подручных средств тоже пытается "освободить" себя от своей "истории" и жить в качественно ином темпоральном ритме. И поступая таким образом, он возвращается к мифическому образу жизни, не осознавая этого.
Это можно лучше понять, если внимательнее рассмотреть два принципиальных способа "бегства", используемых современным человеком - чтение и зрелищные развлечения. Нет необходимости обращаться ко всем мифическим прецедентам наших публичных зрелищ; достаточно вспомнить ритуальное происхождение боя быков, скачек и соревнований атлетов; они имеют единое общее в том, что происходят в "сосредоточенном" времени, времени повышенной напряженности; времени, оставшемся или являющимся магической заменой религиозного времени. Это "сконцентрированное" время является также и специфическим измерением театра и кино. Даже если мы не будем принимать во внимание обрядовое происхождение и мифологическую структуру драмы или фильма, все равно остается главное - что эти два типа зрелища заставляют нас жить во времени, качественно отличном от "секуляризованного течения", в темпоральном ритме, в одно и то же время концентрированном и четко сформулированном, который, кроме эстетической причастности, пробуждает в зрителе и глубокое эхо.
Если мы обратимся к чтению, то здесь вопрос более тонкий. С одной стороны, он касается форм и мифических истоков литературы, а с другой стороны - того действия, которое чтение оказывает на поддерживаемый им ум. Последовательные стадии мифа, легенды, эпической поэмы и современной литературы указывались часто и нет необходимости здесь останавливаться на них. Давайте просто припомним тот факт, что в великих современных романах до некоторой степени сохраняются мифические архетипы. Трудности и испытания, через которые должен пройти герой романа, предварительно встречаются в приключениях мифических героев. Можно также показать, что мифические темы изначальных вод, островков Рая, поисков Святого Грааля, героического и мистического посвящения и так далее, все еще доминируют в современной европейской литературе. Совсем недавно мы наблюдали в сюрреализме огромный взрыв мифологической тематики и изначальных символов. Что же касается литературы книжных киосков, то ее мифологический характер очевиден. Каждый популярный роман должен представлять типичную борьбу Добра и Зла, героя и негодяя (современное воплощение дьявола) и повторять один из универсальных мотивов фольклора - преследуемую молодую женщину, спасенную любовь, неизвестного благодетеля и тому подобное. Даже детективные романы, как хорошо продемонстрировал Роже Кэлуа, полны мифологических тем.
Должны ли мы упоминать о том насколько лирическая поэзия повторяет и продолжает мифы? Вся поэзия старается "переделать" язык, другими словами, отойти от современного повседневного языка и отыскать новую, частную и собственную речь, согласно последнему анализу - тайную. Но поэтическое творение, как и лингвистическое, подразумевает отказ от времени - истории, сконцентрировавшейся в языке - и склонно к возврату райского, изначального состояния: тех дней, когда можно было творить непринужденно, когда прошлое не существовало, потому что время не осознавалось, не было памяти темпорального течения. Более того, даже в наше время говорится, что для великого поэта прошлого не существует: поэт видит мир таким, каким он был в космогонический момент первого дня Творения. С определенной точки зрения мы можем сказать, что каждый великий поэт "переделывает" мир, так как пытается увидеть его таким, как если бы Времени и Истории не существовало. В этом его позиция удивительно схожа с таковой "примитивного" человека и человека традиционных культур.
Но нас главным образом интересует мифологическая функция самого чтения, так как здесь мы имеем дело со специфическим явлением современного мира, неизвестным более ранним цивилизациям. Чтение занимает не только место традиционного устного фольклора, все еще сохранившегося в сельскохозяйственных общинах Европы, но также и пересказа мифов в архаических обществах. Сейчас чтение, наверное, даже больше, чем зрелищные развлечения, позволяет индивидууму сделать паузу и одновременно "уйти от времени". "Убиваем" ли мы время детективным рассказом или входим в иную темпоральную вселенную - что мы проделываем, читая любой роман - мы все равно выходим из своего собственного течения времени, чтобы идти в другом ритме, жить в иной истории. В этом смысле чтение предлагает нам "легкий путь", оно предоставляет модификацию переживаний с малыми для нас затратами. Для современного человека это является превосходнейшим "отвлечением", дающим иллюзию господства над Временем, что, как вполне можно предположить, удовлетворяет тайное желание человека уйти от неумолимого течения времени, ведущего к смерти.
Защита от времени, которую мы видим в любого рода мифологической позиции, но которая, фактически, неотделима от человеческой природы, появляется, различным образом замаскированная, в современном мире, в основном в его отвлечениях, развлечениях. Именно здесь можно видеть радикальное отличие, существующее между современными культурами и другими цивилизациями. Во всех традиционных обществах любое важное действие воспроизводило свою мифическую, надличностную модель, а следовательно, имело место в священном времени. Труд, ремесло, война и любовь - все это были таинства. Повторение того, что пережили боги и герои, придавало человеческому существованию священный аспект, дополняющийся священной природой, приписываемой жизни и космосу. Открываясь таким образом Великому Времени, священное существование, каким бы бедным оно зачастую не было, тем не менее было богатым по своему значению: во всяком случае, оно не находилось под тиранией времени. Истинное "подчинение времени" начинается с секуляризации работы. Лишь в современном обществе человек ощущает себя узником своей повседневной работы, в которой он никогда не может уйти от времени. И так как человек больше не может "убить" время в течение своих рабочих часов - то есть когда он отражает свою реальную социальную сущность - он старается уйти от времени в часы досуга: отсюда и ошеломляющее количество отвлечений внимания, изобретенных современной цивилизацией. Другими словами, все выглядит так, будто порядок вещей противоположен существовавшему в традиционных культурах, потому что там "отвлечений" почти не было; каждое важное занятие само по себе было "уходом от времени". Именно поэтому, как мы сейчас видели, у громадного большинства индивидуумов, которые не практикуют никаких подлинных религиозных вероисповеданий, мифическая позиция - в их отвлечениях, а также в их бессознательной психической деятельности (сновидениях, фантазиях, ностальгиях и тому подобное). А это означает, что "вхождение во время" начинают путать с секуляризацией работы и последующей автоматизацией существования - что приводит к плохо скрываемой потере свободы; и единственно возможным уходом от действительности на общественном уровне является отвлечение.
Нескольких приведенных наблюдений должно быть достаточно. Мы не можем сказать, что современный мир полностью исключил мифическое поведение, изменилось лишь поле его деятельности: миф больше не доминирует в существенных секторах жизни, он вытеснен частично на более скрытые уровни психики, частично во второстепенную и даже в безответственную деятельность общества. Верно, что мифическое поведение сохранилось, хотя и в скрытом виде в роли, выполняемой образованием, но почти исключительно в том, что касается очень молодых. Более того, функция образования, заключающаяся в предоставлении примера, находится на пути к исчезновению: современная педагогика поощряет непосредственность. Не считая подлинно религиозной жизни, миф, как мы видели, функционирует главным образом в отвлечениях. Но он никогда не исчезнет; иногда он с необычной силой заявляет о себе в общественной жизни в фирме политического мифа.
Можно суверенностью предположить, что понимание мифа однажды будет отнесено к наиболее полезным открытиям двадцатого столетия. Западный человек не является властелином мира; он больше не руководит "туземцами", а ведете ними разговор. И совсем неплохо, если он будет знать, с чего начать этот разговор. Ему необходимо осознать, что в последовательной смене "примитивного" или "отсталого" мира на мир, подобный современному, нет разрыва. Теперь уже не является достаточным, как полстолетия тому назад, открывать для себя и восхищаться искусством негров или тихоокеанских островитян. Сейчас мы должны заново открыть духовные истоки этого искусства в самих себе; должны осознать, чем данное искусство является в наше время, которое все еще остается "мифическим" и выживает как таковое просто благодаря тому, что миф является неотъемлемой частью человеческого состояния и отражает беспокойство человека, живущего во времени.
МИФ О БЛАГОРОДНОМ ДИКАРЕ, ИЛИ ПРЕСТИЖ НАЧАЛА
Una isola muy hermosa...
Выдающийся итальянский исследователь фольклора Дж. Коккиара недавно написал: "перед тем, как быть открытым, дикарь был вначале придуман".
Это остроумное наблюдение не лишено смысла. Шестнадцатое, семнадцатое и восемнадцатое столетия создали тип "благородного дикаря" как критерий для своих моральных, политических и социальных изысканий. Идеалисты и утописты, похоже, были до безумия увлечены "дикарями", особенно их поведением в отношении семейной жизни, общества и собственности; завидовали их свободе, справедливому и беспристрастному разделению труда, блаженному существованию на лоне природы. Но это "изобретение" дикаря, близкого по духу чувственности и идеологии семнадцатого и восемнадцатого веков, было лишь реализацией в радикально секуляризованной форме намного более древнего мифа - мифа о земном Рае и его обитателях в сказочные времена до начала истории. Вместо "изобретения" хорошего дикаря, на самом деле мы должны говорить о мифологизированной памяти и о ее типичном образе.
Рассматривая материалы по этому вопросу, мы видим, что прежде чем было составлено досье тогда еще не родившейся этнографии, дневники путешественников, побывавших в неизведанных странах, читались и высоко ценились по особой причине - так как они описывали счастливое человечество, которому удалось избежать злодеяния цивилизации, и так как они представляли модели утопических обществ. От Пьетро Мартире и Жана де Лери до Лафито путешественники и ученые мужи превзошли друг друга в восхвалении добродетели, чистоты и счастья диких народов. Пьетро Мартире в своих "Decades de Orbe Novo 1511", завершенных в 1530 г. описывает золотой век и украшает христианскую идеологию, в отношении бога и земного рая, классическими воспоминаниями; он сравнивает условия жизни дикарей с царством красоты, воспетым Вергилием. Иезуиты сравнивали дикарей с древними греками, а Фр. Лафито в 1724 году обнаружил среди них последние живые следы древности. Лас Касас не сомневался в том, что утопии шестнадцатого столетия могут быть осуществлены: а иезуиты лишь реализовали его заключения, основав свое теократическое государство в Парагвае.
Тщетно пытаться делать вид, что эти интерпретации и оправдания сводятся к одному последовательному заключению. Существовали различные ударения, оговорки и поправки. Этот предмет достаточно хорошо известен, что избавляет нас от дальнейшего его рассмотрения. Однако мы должны отметить, что "дикари" обеих Америк и Индийского океана были далеко не представителями "примитивной культуры", далекими от народов, "не имеющих своей истории". На самом деле они были высокоцивилизованными, в подлинном смысле этого слова (теперь мы знаем, что каждое общество представляет собой цивилизацию), и прежде всего по сравнению с такими "примитивными" народами, как аборигены Австралии, пигмеи. Между последними и бразильцами или гуронами, которых так превознесли исследователи и идеалисты, фактически, была пропасть, которую можно сравнить с таковой между палеолитом и ранним неолитом или даже началом четвертичного периода. Истинные "примитивные люди", "примитивные из примитивных" были обнаружены и описаны лишь недавно; но в период расцвета позитивизма это открытие не оказало никакого влияния на миф о благородном дикаре.
Этот "добрый дикарь", который сравнивался с моделями классической древности или даже с библейскими персонажами, явился старым знакомым. Мифический образ "дикого человека", жившего до начала истории и цивилизации, никогда не был полностью стерт. В средние века он был соединен с таковым земного рая, который вдохновил столь многих мореплавателей на путешествия. Воспоминания о Золотом Веке преследовали античность со времен Гесиода. Гораций считал, что видел у варваров чистоту патриархальной жизни.
Он даже в то время страдал ностальгией по простому и здравому существованию на лоне природы.
Миф о благородном дикаре был лишь возрождением и продолжением мифа о Золотом Веке, то есть о совершенстве начала вещей. Мы должны были поверить идеалистам и утопистам эпохи Возрождения, что утрата Золотого Века была делом рук "цивилизации". Состояние невинности и духовного блаженства человека, которое предшествовало его падению, становится в мифе о неиспорченном дикаре чистым, свободным и счастливым состоянием типичного человека, окруженного щедрой материнской природой.
Но в таком образе изначальной Природы мы легко можем узнать черты райского пейзажа.
Сразу же бросается в глаза та деталь, что "благородный дикарь", описанный мореплавателями и превознесенный идеалистами во многих случаях принадлежал к обществу каннибалов. Путешественники не делали из этого тайны. Пьетро Мартире встретил каннибалов в Вест-Индии (Карибское море) и на побережье Венесуэлы. Этот факт, однако, не удержал его от разговоров о Золотом Веке. Во время второго путешествия в Бразилию (1549-1555 гг.) Ханс Штадес девять раз попадал в плен к Тупинаба; и в своем рассказе, опубликованном в 1557 году, он с большими подробностями описывает их каннибализм и даже представляет несколько исключительных гравюр по дереву, свидетельствующих об этом. Другой исследователь, О.Даррер, также проиллюстрировал свою книгу многочисленными гравюрами, представляющими различные обычаи на пиршествах каннибалов Бразилии".
Что касается книги Жана де Лери о путешествиях по Бразилии, то она была прочитана и аннотирована Монтенем, который оставил нам свое мнение о каннибализме - он считал более варварским "поедать человека живьем, чем съесть его мертвым". Гарсиласо де ла Вега в отношении инков пошел еще дальше. Он восхвалял империю инков как пример идеального государства; добродетель и счастье туземцев должны были служить примером европейскому миру.
Правда, Гарсиласо де ла Вега добавляет, что до господства инков каннибализм был распространен по всему Перу, и подробно останавливается на пристрастии этих туземцев к человеческой плоти (это было утверждение хорошо осведомленного человека; районы Перу и верхней Амазонки пользуются печальной известностью в летописях антропофагии, и до сегодняшнего дня там еще находят племена каннибалов).
Но в то время, как информация становилась все более многочисленной и точной, миф о добром дикаре все еще продолжал свой выдающийся путь через все утопии и социальное теоретизирование Запада, вплоть до Жан-Жака Руссо - что с нашей точки зрения, является глубоко поучительным. Данный факт говорит о том, что бессознательное западного человека не оставило древнюю мечту - отыскать современника, все еще живущего в земном раю. Поэтому вся литература о дикарях является ценным материалом для изучения мышления западного человека: она раскрывает его стремление к условиям Эдема - стремление, которое к тому же подкрепляется многими другими райскими образами и отношениями - тропическими островами и изумительными пейзажами, блаженной наготой и красотой туземных девушек, сексуальной свободой и так далее. Список избитых фраз бесконечен. Можно составить очаровательное описание этих типичных образов; оно бы раскрыло все те многочисленные личины, за которыми скрывается ностальгия по Раю. Более всего нас интересует один вопрос. Если миф о добром дикаре является творением памяти, то имеет ли он иудейско-христианское происхождение или его можно проследить до классических воспоминаний? Наибольшее значение, однако, имеет тот факт, что люди эпохи Возрождения, также как и люди средних веков и периода классицизма, хранят в памяти мифическое время, когда человек был неиспорченным, совершенным и счастливым; и в аборигенах, обнаруживаемых ими в то время, они ожидали увидеть современников той изначальной, мифической эпохи.
Было бы уместно, продолжая наши исследования, задать вопрос: что же сами дикари думали о себе как они оценивали свою свободу и счастье? Во времена Монтеня и Лафита рассмотрение этого вопроса было бы немыслимым; но современная этнология сделала такое рассмотрение возможным. Поэтому давайте оставим мифологии западных утопистов и идеалистов и рассмотрим таковые недавно открытых "добрых дикарей".
Заботы каннибала
Дикари в свою очередь, также считали, что утратили первобытный рай. Иными словами, мы можем сказать, что дикари, не более и не менее, чем западные христиане, считали, что пребывают в "павшем" состоянии по сравнению со сказочно счастливым положением дел в прошлом. Их реальные условия существования отличались от изначальных, что было вызвано катастрофой, произошедшей в те времена. До этой катастрофы человек наслаждался жизнью, подобной жизни Адама до того, как он согрешил. Мифы о Рае, без сомнения, имели различия у представителей разных культур, но некоторые общие черты повторялись постоянно: в то время человек был бессмертен и мог стать лицом к лицу с Богом: он был счастлив и ему не нужно было работать ради пропитания; едой его обеспечивало или дерево, или сельскохозяйственные инструменты работали на него сами по себе, как автоматы. В этих райских мифах имеются и другие, в равной мере важные элементы (отношение между небом и землей, власть над животными и тому подобное), но здесь мы воздержимся от их анализа.
В настоящий момент необходимо подчеркнуть, что "добрый дикарь" путешественников и теоретиков шестнадцатого и восемнадцатого столетий уже знал миф о неиспорченном дикаре; это был его собственный предок, действительно живший райской жизнью, наслаждавшийся всеми благами и всеми свободами, не требовавшими от него ни малейшего усилия. Но этот неиспорченный изначальный Предок, как и библейский предок европейцев, утратил свой рай. Для дикаря также в начале было совершенство.
Существовало, однако, различие, имеющее важнейшее значение: дикарь взял на себя труд не забыть того, что произошло в давние времена. Периодически он восстанавливал в памяти те существенные события, которые поставили его в положение "павшего" человека. И сразу же необходимо отметить, что то значение, которое дикарь придавал точному воспоминанию этих мифических событий, не подразумевало никакой высокой оценки памяти как таковой: примитивного человека интересовали лишь начала, для него мало значило, что случилось с ним или с другими, подобными ему в более или менее отдаленное время. У нас нет здесь возможности подробно рассматривать такое своеобразное отношение к событиям и времени. Но необходимо осознавать, что для примитивного человека существуют две категории событий, имеющих место в двух типах времени, которые качественно несовместимы: первая включает в себя события, которые мы называем мифическими, происходившими с самого возникновения и составляющими космогонию, антропогонию, мифы зачинания (обычаев, цивилизаций и культур), и все это он должен запомнить. Вторая же включает в себя события, не имеющие типичного характера, факты, которые просто произошли и для него не представляют интереса: он забывает их; он "сжигает" память о них.
Периодически наиболее важные события воссоздавались и переживались заново: так человек, пересказывая космогонию, повторял типичные жесты богов и поступки, положившие начало цивилизации. В этом чувствовалась ностальгия по начинаниям. В некоторых случаях можно даже говорить о ностальгии по первобытному раю. Истинная "ностальгия по раю" обнаруживается в мистицизме примитивных обществ. Во время экстазов они входят в райское состояние мифического предка, предшествующее его "падению.
Эти экстатические переживания имеют свои последствия и для всего общества: все его идеи в отношении бога и природы души, мистическая география Небес и Страны Мертвых, и вообще, разнообразные концепции "духовности" так же, как истоки мифической поэзии и эпической поэмы и, во всяком случае, частично - источники музыки, в большей или меньшей мере прямо походят от таких экстатических переживаний шаманического типа. Таким образом, можно сказать, что ностальгия по раю и стремление вернуть то состояние, в котором находился Предок в Эдеме, хоть и проявляются лишь в короткий промежуток времени и только в экстазе, оказывают значительное влияние на культурные творения примитивного человека.
У большого количества людей, особенно у земледельцев, выращивавших корнеплодные (незерновые) культуры, предания о причинах наступления теперешнего состояния человека предстают в еще более драматичной форме. Согласно их мифологии, человек стал таким, каким он есть сейчас - смертным, сексуально зависимым и обреченным трудиться - вследствие изначального убийства. Божество, довольно часто выступавшее в образе девушки, иногда - ребенка или мужчины, согласилось быть принесенным в жертву, чтобы из его тела смогли вырасти клубни плодоносящих растений. Это первое убийство радикально изменило образ бытия человеческой расы. Принесение в жертву божества привело к необходимости в пище, а также к неизбежности смерти, а следовательно, и к сексуальной зависимости - как единственному средству, обеспечивающему продолжение жизни.
Тело принесенного в жертву божества трансформировалось в пищу, его душа ушла под землю, где основала Страну Мертвых. Йенсен, исследовавший божеств такого типа - которых он называет dema божествами - очень ясно показал нам, как питаясь и умирая, человек разделяет существование dema.
У всех этих палео-земледельческих народов существенной обязанностью являлось периодическое восстановление этого изначального события, ознаменовавшего настоящие условия жизни человека. Вся их религиозная жизнь заключается в поминовении и восстановлении в памяти этого. Решающую роль при этом играет Воспоминание, которое разыгрывается ритуально, то есть повторением изначального убийства - ни в коем случае нельзя забывать того, что произошло в давние времена. Истинный грех заключается в забывчивости. Молодая девушка, которая во время первой менструации проводит три дня в темной хижине и ни с кем не разговаривает, делает это потому, что мифическая принесенная в жертву девушка превратилась в луну и три дня оставалась в темноте. Если юная затворница нарушает табу молчания и заговаривает, она оказывается виновной в том, что забыла изначальное событие. У этих палео-земледельцев персональная память также ничего не значит: важно запомнить мифическое событие, которое лишь одно достойно внимания, так как лишь оно одно является сотворяющим. К изначальному мифу относится и сохранение подлинной истории, истории положения человека, именно в нем мы должны искать и снова находить принципы и образцы для всего образа жизни.
Именно на этой стадии культуры мы встречаемся с ритуальным каннибализмом, который, в конечном счете, является духовно обусловленным поведением Хорошего Дикаря. Самая величайшая забота каннибала в сущности выглядит метафизической - никогда не забывать того, что произошло в давние времена. Фольхардт и Йенсен ясно показали, что, убивая и поедая свиней во время торжеств и поедая первые плоды урожая корнеплодов, человек поедает божественную плоть точно так же, как и во время празднеств каннибалов. Принесение в жертву свиньи, охота за головами и каннибализм символически означают то же самое, что и сбор урожая корнеплодов или кокосов. Именно Фольхардту принадлежит заслуга раскрытия религиозного значения антропофагии, а вместе с тем и человеческой ответственности, принимаемой на себя каннибалом.
Съедобное растение не предоставлено природой. Оно является продуктом убийства, потому что именно таким образом оно было сотворено в начале времен. Охота за головами, человеческое жертвоприношение, каннибализм - все эти было принято человеком, чтобы обеспечить жизнь растениям. Фольхардт справедливо настаивал на том, что каннибал принимает на себя ответственность за этот мир, что каннибализм является не "естественной" порочностью примитивного человека (тем более, что он не обнаружен на самых архаичных уровнях культуры), а типом поведения, свойственного его культуре, основанного на религиозном видении жизни. Для того, чтобы растительный мир мог продолжить свое существование, человек должен убивать и быть убитым. Более того, он должен принять сексуальность, даже в ее крайнем проявлении - в оргии. Абиссинская песня провозглашает следующее: "Дайте родить той, которая еще не рожала, дайте убить тому, кто еще не убивал!" Это способ указания на то, что два пола обречены каждый принять свою судьбу.
Перед тем, как осуждать каннибализм, мы всегда должны помнить, что он был заложен божествами. Они положили ему начало, чтобы человек смог на себя взять ответственность за космос, чтобы поставить его в положение смотрителя за продолжением растительной жизни. Следовательно, каннибализм имел отношение к ответственности религиозного характера, что подтверждается каннибалами Уитото: "Наши предания всегда живут в нас, даже когда мы не танцуем. Мы и работаем лишь для того, чтобы иметь возможность танцевать". Танцы эти состоят из повторения всех мифологических событий, включая, поэтому, и первое убийство с последующей антропофагией. Будь то каннибал или нет, Добрый Дикарь, превознесенный западными путешественниками и теоретиками, постоянно был озабочен "истоками", первоначальными событиями, которые привели его как павшее существо к обреченности на труд и смерть и зависимости от пола. Чем больше мы узнаем о "примитивных" людях, тем больше нас поражает то чрезвычайное значение, которое они придавали восстановлению в памяти мифических событий. Такая своеобразная оценка памяти заслуживает изучения.
Хороший дикарь, йог и психоаналитик
Достаточно говорить об обязательствах, принимаемых архаическими обществами, периодически повторять космогонию и все те действия, которые послужили началом их законам, обычаям и поведению.
Этот "возврат к прошлому" допускает различные интерпретации. Но более всего наше внимание приковывает их потребность воскрешения в памяти того, что случилось в самое возникновение. Нет необходимости говорить о том, что значения, приписываемые "началам", имеют множество вариаций. Как мы только что видели, для огромного количества людей, все еще находящихся на ранних стадиях развития культуры, "начало" означает катастрофу ("изгнание из Рая") и "вхождение" в историю, в то время как у палео-земледельцев оно приравнивалось к приходу смерти, сексуальной зависимости и неизбежности работы (мотивы, также фигурирующие в мифологических повествованиях о Рае). Но в обоих случаях память об изначальном событии играет впечатляющую роль, она периодически воспроизводится в ритуалах, чтобы человек мог пережить это событие и снова стать современником мифического времени. Действительно, "Возрождение прошлого" делает его настоящим и вновь объединяет человека с первоначальным изобилием.
В большей степени оценить значение этого возврата к истокам мы сможем, если перейдем от коллективных ритуалов к некоторым конкретным их применениям. В некоторых значительно отличающихся друг от друга культурах космогонический миф обыгрывается не только в таких случаях, как празднование Нового года, но и при возведении на престол нового вождя, при объявлении войны или для спасения урожая, и, наконец, при излечении болезни. Последнее имеет для нас величайший интерес. Было указано, что многие народы, от наиболее примитивных до наиболее цивилизованных (например, народы Месопотамии), в качестве терапевтического средства использовали декламацию космогонического мифа. Мы можем легко понять почему: при символическом "возврате к прошлому" пациент оказывался современником сотворения, он снова жил в изобильном бытии. Изношенный организм не восстанавливается, а делается заново, пациенту необходимо родиться снова; ему нужно, так сказать, вернуть всю энергию и силу, которую человек обретает в момент своего рождения. И такой возврат к "началу" оказывается возможным благодаря памяти самого пациента. Космогонический миф декламируется перед ним и для него; именно больной человек, припоминая один за другим эпизоды мифа, вновь переживает их, а следовательно, становится их современником. Функция памяти заключается не в том, чтобы сохранить память об изначальном мире, а в том, чтобы перенести пациента туда, где это событие находится в процессе свершения, а именно: к заре Времени, к "началу".
Этот "возврат к прошлому" посредством памяти как способ магического излечения, естественно, побуждает нас расширить наше исследование. Как мы можем не сравнить эту архаическую процедуру с методиками духовного исцеления, не говоря уже о различных путях спасения и философиях, выработанных историческими цивилизациями, бесконечно более сложными, чем те, что мы только что рассматривали? Прежде всего, вспоминается одна из фундаментальных техник йоги, практикуемая как среди буддистов, так и среди индуистов. Нет необходимости добавлять, что приводимые нами сравнения не подразумевают с нашей стороны ни малейшего осуждения греческой или индийской мысли. Не приписываем мы чрезмерного значения и архаическому мышлению. Но современные науки и открытия, каковы бы ни были их непосредственные критерии, могут придерживаться определенной солидарности, и результаты, полученные в какой-либо области исследований, могут побудить нас применить новые подходы в других, смежных с ней областях. Нам кажется, что значение, определяемое современной мыслью времени и истории, а также выводы психоанализа могут пролить свет на некоторые духовные положения архаического человечества.
Согласно Будде, как и всей индийской мысли в целом, человеческая жизнь обречена на страдания самим тем фактом, что она протекает во времени. Здесь мы касаемся обширного вопроса, который не может быть обобщен на нескольких страницах, но упрощая, можно сказать, что страдания в этом мире основываются на карме и до бесконечности ею пролонгируются. Отсюда и временная природа существования. Вечный возврат к существованию, а значит, и к страданиям - это закон кармы, налагающий бесчисленные переселения. Освободиться от закона кармы, разорвать завесу Майи - эквивалентно духовному "исцелению". Будда является "королем исцелителей", и его послание провозглашается как "новая терапия". Философии, методики воздержания и медитации, мистические системы Индии - все направлены к одной цели: исцелить человека от боли существования во времени. Именно "сжиганием" самого последнего зародыша жизни человек, наконец, разрывает кармический цикл и достигает избавления от времени. Одним из способов "сжигания" кармического остатка является техника "возврата в прошлое", осознание своих прошлых жизней. Эта техника в Индии является универсальной. Она приводится в "Йога-сутре" и была известна всем мудрецам и практикующим медитацию современникам Будды, который и сам применял и рекомендовал ее.
Метод заключается в том, чтобы оттолкнувшись от конкретного времени, ближайшего к настоящему моменту, вернуться во времени обратно или "против течения" к той точке, где бытие впервые "ворвалось" в мир и спустило с привязи время. И тогда человек вновь сливается с тем парадоксальным моментом, до которого времени не существовало, потому что не было ничего. Мы можем понять значение и цель этой техники: обратное восхождение по потоку времени, в конце концов, непременно приведет человека к отправной точке, которая совпадает с таковой космогонии. Повторно пережить свои прошлые жизни - это также значит и понять их и, до некоторой степени, "сжечь" свои "грехи", то есть все те поступки, совершенные в состоянии неведения и перенесенные по закону кармы из одной жизни в другую. Но есть кое-что, имеющее даже большее значение: человек достигает начала времени и вступает в безвременное - вечную сущность, предшествующую преходящему мироощущению, которое было привнесено в человеческое бытие "падением". Другими словами, можно, начиная с любого момента временного течения, исчерпать это течение, вернувшись обратно по пути к его началу, и таким образом выйти в Безвременное, в вечность. Но это означает выйти за пределы человеческого положения и вновь обрести необусловленное состояние, которое предшествует вступлению во время и колесу существований.
Мы вынуждены воздержаться от сложностей, к которым бы пришли, пытаясь отдать должное этой технике йоги.
Наша цель здесь состоит лишь в том, чтобы указать на терапевтическую силу памяти, как понимали ее индусы, и на ее функцию спасения. Для Индии знания, ведущие к спасению, основаны на памяти. Ананда и другие ученики Будды могли "помнить рождения" и относились к тем, кто "помнит рождения". Вамадева, автор хорошо известного гимна "Ригведа" сказал о себе: "Ощутив себя в лоне, я осознал все рождения богов", Кришна сам "знал все предшествующие существования". Когда человек знает в этом смысле, он является тем, кто может вспомнить начало, или, если быть более точным, тем, кто стал современником рождения мира, того времени, когда впервые проявились время и существование. Радикальное "исцеление" от страданий бытия достигается возвращением по пескам памяти обратно к изначальному времени, что подразумевает отказ от мирского времени.
Теперь мы можем видеть, в каком смысле такая философия спасения сравнима с архаическим лечением, которое по своему также должно было сделать пациента современником космогонии (нет необходимости говорить о том, что эти две категории фактов спутать нельзя - позиция, с одной стороны, и философия - с другой). Человек архаического общества пытается перенестись обратно к началу мира, чтобы заново впитать первоначальное изобилие и снова вернуть нетронутыми резервы энергии новорожденного. Будда, как и по большей части йога, не занимается "началами"; он считает любые поиски первопричины тщетными; он просто стремится нейтрализовать те последствия, которые эти первопричины вызвали в жизни каждого индивидуума. Его целью является разрыв последовательности переселений. А один из способов достижения этого заключается в возвращении по пути предыдущих жизней через их память обратно к тому моменту, когда к существованию пришел космос. Следовательно, в этом отношении между двумя методами существует эквивалентность: в обоих случаях "исцеление", а следовательно, и решение проблемы бытия, становится возможным через память об изначальном действии о том, что произошло в начале.
Другой параллелизм очевиден в анамнезе. Не останавливаясь на анализе известной доктрины Платона и ее вероятного начала в пифагореизме, давайте в данном случае обратим внимание, каким образом архаическая позиция развивалась в благоприятном для философии направлении. Мы очень мало знаем о Пифагоре, но то, что он верил в метемпсихоз и помнил свои предыдущие жизни, знаем наверняка. Ксенофонт и Эмпедокл описывали его как "человека чрезвычайно образованного", так как "когда он привлекал все силы своего ума, то с легкостью мог видеть, кем он был десять или двадцать человеческих жизней назад". В братствах приверженцев пифагореизма существовала настоятельная традиция придавать большое значение тренировке памяти.
Значит, Будда и йоги не были одиноки в своей способности вспоминать прежние жизни. Такая же способность приписывалась и шаманам, что не должно нас удивлять, так как шаманы были "теми, у кого сохранилась память о началах". В своих экстазах они вновь входили в изначальное времена.
В настоящее время существует общее мнение, что доктрина Платона об анамнезе походит от традиций пифагореизма. Но у Платона это уже не вопрос о персональном воспоминании собственных жизней, а что-то типа "безличностной памяти", глубоко захороненной в каждом индивидууме, состоящей из воспоминаний того времени, когда душа непосредственно обдумывала Идеи. В этих воспоминаниях не может быть ничего личного: если бы было так, то существовало бы множество путей понимания треугольника, что, несомненно, абсурдно. Мы помним лишь идеи; а различия между индивидуумами существуют лишь благодаря несовершенству анамнеза.
В доктрине Платона о памяти безличной реальности наиболее удивительным мы находим продолжение архаической мысли. Расстояние между Платоном и примитивным миром слишком очевидно, чтобы описать его словами; но это расстояние не подразумевает разрыва в их преемственности. В этой доктрине Платона о идеях греческая философия обновила и переоценила архаический и универсальный миф о сказочном плероматическом времени, о котором человек должен помнить, если хочет узнать истину и принять участие в бытии. Примитивный человек, также как и Платон в своей теории анамнеза, не придает значения "личным" воспоминаниям: для него имеет значение лишь миф, типичная история. Можно сказать, что Платон подходит к традиционному мышлению даже ближе чем Пифагор: последний со своими личными воспоминаниями о десяти или двадцати предыдущих жизнях более соответствует "избранным" - Будде, йогам и шаманам. У Платона имеет значение лишь существование души до бытия в безвременной вселенной идей, и является памятью об этом безличном состоянии.
Мы не можем не сказать о значении, которое "возврат в прошлое" получил в современной терапии, особенно в психоанализе, где найдено, каким образом использовать память и воспоминания о "изначальных событиях" в качестве основного метода лечения. Но в рамках современной духовности и согласно иудейско-христианской концепции исторического и необратимого времени, "изначальное" может лишь означать раннее детство человека. Следовательно, психоанализ вводит в терапию историческое и индивидуальное время. Пациент уже больше не рассматривается как индивидуум, страдающий лишь из-за объективных событий настоящего (несчастные случаи, бактерии и так далее) или из-за дефекта других (наследственность), как было принято в допсихоаналитический век; он страдает также от последствий шока, перенесенного в его собственной временной непрерывности, какой-то личной травмы, перенесенной во время детства - травмы, которая была забыта им или, более точно, никогда не была осознана и лечение заключается именно в "возврате к прошлому", восстановлении прошлого в памяти, чтобы снова разыграть кризис, снова пережить психический шок и вернуть его обратно в сознание. Мы можем перевести процедуру, действующую таким образом, на язык архаической мысли, сказав, что лечение заключается в том, чтобы начать жить сначала: то есть повторить рождение, сделать себя современником "начала" - и это есть ни что иное как имитирование величайшего начала, космогонии. На уровне архаической мысли, благодаря ее концепции циклического времени, повторение космогонии не представляет никакого труда; но для современного человека личные воспоминания, являющиеся "изначальными", могут относиться лишь к младенчеству. Когда наступает психический кризис, современный человек должен вернуться именно в младенчество, чтобы заново пережить и встать лицом к лицу с тем событием, которое этот кризис вызвало.
Наиболее смелым было предприятие Фрейда: он внес время и историю в категорию явлений, к которым ранее применялся подход извне, подобно тому, как натуралист обращается с предметом своих исследований. Одно из открытий Фрейда имело наиболее необыкновенные последствия, а именно: то, что у человека существует "изначальный период", в котором все решается - очень раннее детство - и что ход этого периода является типичным для всей остальной жизни. Перефразируя это словами архаического мышления, можно сказать, что одно время был "рай" (которым для психоаналитика является пренатальный период, или время до отнятия от груди), заканчивающийся "разрывом" или "катастрофой" (детская травма), и какова бы ни была позиция взрослого по отношению к этим изначальным условиям, они, тем не менее, играют формирующую роль его бытия. Появляется искушение расширить эти наблюдения, включив открытое Юнгам коллективное бессознательное, ряд психических структур, предшествующий таковым индивидуальной психики, о которых нельзя сказать, что они были забыты, так как они не были основаны на индивидуальных переживаниях. Мир архетипов Юнга сходен с миром идей Платона в том, что архетипы безличны и участвуют не в историческом времени жизни индивидуума, а во времени видов - и даже самой органической жизни.
Конечно, все это требует дальнейшего развития и конкретизации, но уже и сейчас позволяет пролить свет на то, что произошло в начале. "Рай" и "Падение", или катастрофическое ниспровержение предыдущего режима, включая каннибализм, смерть и зависимость от полового размножения, как видят их в примитивных преданиях, или изначальный разрыв бытия изнутри, как объясняет индийская мысль - все это многочисленные образы мифического события, которое ходом своего развития заложило основы состояния человека. Каковы бы ни были различия между этими образами и формулами, в конечном итоге они означают одно и то же: составляющее сущность человеческое состояние предшествует действительному человеческому состоянию; решающее событие произошло до нас и даже до наших родителей - решающий поступок был совершен мифическим Предком (в иудейско-христианском контексте - Адамом). Более того, человек обязан возвращаться к действиям этого Предка, чтобы или повторить их или стать лицом к лицу с ними, короче, никогда не забывать их, какой бы путь он не избрал для осуществления этого возврата к истокам. Никогда не забывать событие, составляющее сущность - то есть, фактически, сделать его настоящим, вновь пережить его. Как мы видели, такова была позиция Доброго Дикаря. Но Христофор Колумб также страдал ностальгией, а именно, ностальгией по земному Раю: он искал его везде и считал, что нашел во время своего третьего путешествия. Мифическая география все еще преследовала человека, только что обнаружившего путь к такому множеству открытий. Будучи добропорядочным христианином, Колумб считал себя, по существу, созданным историей предков. Если он до конца своих дней верил в то, что Гаити - это библейская золотая земля, то только потому, что для него этот мир не мог быть ничем иным, кроме как типичным миром, история которого записана в Библии.
Вера в то, что человек основывается тем, что произошло в давние времена, не является, однако, особенностью примитивной мысли и иудейско-христианского учения. Мы обнаружили направления аналогичного характера в йоге и психоанализе. Можно пойти еще дальше и рассмотреть нововведения, добавившиеся к этой традиционной догме, которые подтверждают, что составляющее сущность человеческое состояние предшествует действительному. Наибольшее новшество пытался ввести историзм утверждением, что человек больше не определяется лишь своим происхождением, в этом также принимает участие его собственная история и история всего человечества. Именно историзм определенно секуляризирует время, отказываясь признать разграничение между мифическим временем начал и временем, последовавшим за ним. Никакая магия больше не озаряет начало "начал": первоначального "падения" или "разрыва" не было, был лишь бесконечный ряд событий, и все они сделали нас такими, какими мы есть сегодня. "Качественного" различия между этими событиями нет; все они заслуживают воскрешения в памяти и переоценки историографическим анамнезом. Предпочтение не отдается ни событиям, ни личностям: изучая эпоху Александра Великого или послание Будды, человек находится не ближе к Богу, чем изучая историю черногорской деревни или биографию какого-нибудь забытого пирата. Перед Богом все исторические события равны, или если человек в Бога не верит - перед историей.
Нельзя остаться равнодушным к этому аскетизму, который европейский ум таким образом возложил на себя, к этому страшному унижению, нанесенному самому себе, будто бы в искупление бесчисленных грехов своей гордости.
РЕЛИГИОЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ И ОБЕСПОКОЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Сейчас мы предлагаем рассмотреть обеспокоенность современного человека в свете истории религии. Многим читателям этот проект может показаться странным, если даже не излишним, так как некоторые из нас считают обеспокоенность современного мира продуктом исторических напряженностей, относящихся конкретно к нашему времени, объясняемые только фундаментальными кризисами нашей цивилизации и больше ничем. Тогда для чего мы должны сравнивать этот исторический момент, в котором живем, с символизмом и религиозными идеологиями других эпох и давно ушедших в прошлое цивилизаций? Такое возражение оправдано лишь наполовину. Не существует абсолютно автономной цивилизации, совершенно не связанной с другими, предшествовавшими ей. Греческая мифология потеряла свою подлинную сущность приблизительно за 2000 лет до того, как было обнаружено, что фундаментальное поведение современного европейца может быть объяснено мифом об Эдипе. Психоанализ и аналитическая психология приучили нас к таким сравнениям - на первый взгляд необоснованным - исторических ситуаций, явно не связанных друг с другом. Некоторые, например, сравнивали идеологию христианина с таковой тотемиста и пытались объяснить понятие Бога-Отца через понятие тотема. Мы сейчас не будем выяснять, насколько хорошо обоснованы такие сравнения или на какой документальной основе они выполнены. Достаточно будет указать, что некоторые психологические школы используют сравнения различных типов цивилизаций, чтобы лучше понять структуру психики. Директивный принцип этого метода заключается в следующем: раз человеческая психика имеет историю, и следовательно, не может быть полностью разъяснена изучением ее теперешнего положения, то, значит, вся ее история и даже предыстория, должна быть различима в том, что мы называем ее фактическим состоянием.
Этого краткого упоминания методов, применяемых аналитическими психологами будет достаточно, так как мы не намерены продолжать двигаться в том же направлении. Говоря о том, что можно изучать обеспокоенность современного времени с точки зрения истории религий, мы имели в виду совершенно другой метод сравнения, который мы сейчас представим в нескольких словах. Мы предлагаем поменять местами предметы сравнения, взглянуть со стороны на нашу цивилизацию и наш исторический момент и рассмотреть их с точки зрения других культур и других религий. Мы не собираемся отыскивать у себя, европейцев двадцатого столетия, определенные позиции, уже известные в древних мифологиях - как, например, проделал Фрейд с Эдиповым комплексом. Наша цель заключается в том, чтобы взглянуть на себя с точки зрения разумного и сочувствующего наблюдателя, с позиции не-европейской цивилизации и увидеть себя такими, какими могли бы увидеть и оценить нас они. Для большей конкретности мы представим себе наблюдателя, принадлежащего к другой цивилизации и выносящего суждения в отношении нас, согласно его собственной шкалы ценностей, а не какого-нибудь абстрактного наблюдателя с планеты Сириус.
Более того, такой подход налагается на нас нашим собственным историческим моментом. Уже в течение некоторого времени Европа не является единственным творцом истории. В русло истории энергично возвращается азиатский мир, за которым вскоре последуют другие земные культуры. В сфере духовности и культуры в целом, это историческое явление будет иметь значительные последствия. Европейские ценности потеряют свой привилегированный статус общепринятых норм. Они снова вернутся к статусу местных духовных творений, то есть культурных придатков определенного исторического радиуса действия, обусловленных четко ограниченными традициями. Для того, чтобы западная культура не превратилась в провинциальную, ей необходимо будет вести разговор с другими, не-европейскими культурами и позаботиться о том, чтобы не слишком часто ошибаться в отношении значения их способов выражения. Для нас крайне необходимо понять, какое место отводится нашей культуре и как она оценивается с их неевропейской точки зрения. Не следует забывать, что все эти культуры имеют религиозную структуру, то есть все они выросли и основаны на религиозных оценках мира и человеческого существования. Чтобы узнать, как нас рассматривают и оценивают представители других культур, мы должны научиться, как нам сравнивать себя с ними, а это будет возможно, только если нам удастся рассмотреть себя с точки зрения их религиозных традиций. Ни в каком другом случае такое сравнение не будет действенным и полезным. Для нас менее поучительно знать, как культурный индус или китаец, или индонезиец, получивший европейское образование, может судить о нас. Он будет упрекать нас в тех недостатках и противоречиях, которые нам и самим хорошо известны. Он может сказать, что мы не в полной мере христиане, недостаточно разумны или слишком нетерпимы - что нам уже известно от своих собственных критиков и моралистов, наших собственных реформаторов.
Следовательно, нам необходимо не только хорошо знать религиозные ценности других культур, а прежде всего попытаться увидеть себя так, как видят нас они. И эта нелегкая задача является возможной благодаря истории религий и религиозной этнологии. Объяснение и оправдание этого нашего смелого предприятия заключается в том, что, пытаясь понять символизм обеспокоенности не христианских религий, мы получаем неплохой шанс узнать, что бы подумали о нашем современном кризисе в восточных и архаических обществах. Очевидно, такое исследование не только покажет нам точку зрения других, не-европейцев: каждое сопоставление с другой личностью ведет к лучшему пониманию своего собственного положения.
Иногда удивительно наблюдать, как некоторые культурные привычки, ставшие для нас такими обычными, что мы считаем их естественным поведением каждого цивилизованного человека, открывают свои неожиданные значения, как только начинают рассматриваться с точки зрения другой культуры. Следует привести в качестве примера лишь одну из наиболее характерных черт нашей цивилизации, а именно - страстный, почти анормальный интерес современного человека к истории. Этот интерес проявляется двумя отличными, но взаимосвязанными путями. Во-первых, в том, что можно назвать страстью к историографии, желанием иметь более полные и точные знания о прошлом человечества и, прежде всего, о прошлом нашего западного мира. Во-вторых, этот интерес к истории проявляется в тенденции современной западной философии определять человека, прежде всего, обусловленным историческим существованием и, в конечном счете, созданным самой историей. То, что называется "историзм", также как и марксизм, и некоторые экзистенциалистические школы, являются философией, которая в том или ином смысле приписывает фундаментальное значении истории и историческому моменту. К некоторым из этих философских течений мы вернемся, когда начнем рассматривать значение обеспокоенности в индусской метафизике. На данный момент мы ограничимся первым аспектом такого интереса к истории, то есть увлечением современного мира историографией.
Это сравнительно недавнее увлечение. Оно датируется второй половиной прошлого века. Верно, что со времен Геродота греко-латинский мир занимался написанием истории. Но это не та история, что была написана, начиная с девятнадцатого столетия, целью которой являлось знать и описать как можно точнее все, что произошло с течением времени. Геродот, как и Ливий и Орозий и даже как истории Ренессанса, писал историю для того, чтобы сохранить примеры и модели и передать их нам для подражания. Но уже прошло столетие, как история больше не является источником типичных моделей. Она стала научной страстью к исчерпывающим знаниям о всех событиях, произошедших с человечеством; стремлением воссоздать все прошлое человеческого рода и донести его до нас. Такого типа интерес мы не встречаем больше нигде. Практически все неевропейские культуры не имеют исторического самосознания. И даже если в них есть традиционная историография - как в случае Китая или стран исламской культуры - ее функция всегда заключается в предоставлении типичных моделей.
Так давайте посмотрим на это увлечение историей с точки зрения находящейся за пределами нашей культурной перспективы. Во многих религиях и даже в фольклоре европейских народов мы встречаем веру в то, что в момент смерти человек до мельчайших подробностей вспоминает всю свою прошедшую жизнь и что он не может умереть до тех пор, пока не вспомнит и заново не переживает всю свою личную историю, На экране памяти умирающий еще раз просматривает свое прошлое. Рассматриваемая с этой точки зрения страсть к историографии в современной культуре была бы признаком, предвещающим ее надвигающуюся гибель. Наша западная цивилизация, перед тем как пойти ко дну, в последний раз вспомнила бы все свое прошлое - от протоистории до тотальных войн. Историографическая самоосознанность Европы - которую некоторые считали высшим титулом ее прочной славы - на самом деле была бы критическим моментом, предшествующим и провозглашающим гибель.
Это не более, чем предварительное упражнение в нашем сравнительном исследовании, и мы выбрали его просто потому, что он наглядно показывает риск, присущий такому подходу, и его возможную выгоду. Действительно, до некоторой степени существенно, что рассматриваемое с совершенно иной точки зрения - с точки зрения погребальных ритуалов и фольклора - это современное увлечение историографией раскрывает перед нами архаический символизм смерти; так часто упоминалось о том, что обеспокоенность современного человека неясно связана с осознанием его историчности, а это, в свою очередь, раскрывает обеспокоенность встречи со Смертью и Небытием.
Верно, что у нас, современных европейцев, страсть к историографии не вызывает никаких предчувствий катастроф; тем не менее, рассматриваемая в религиозной перспективе она означает близость Смерти. А аналитическая психология научила нас приписывать большее значение активному присутствию символа, чем сознательному опыту, который манипулирует им и оценивает его. В данном случае это легко понять, так как популярность историографии является единственным и наиболее очевидным аспектом открытия истории. Другой, более глубокий аспект - это аспект историчности каждого человеческого существования, который поэтому прямо подразумевает боль столкновения со Смертью.
Именно в попытке оценить эту боль перед лицом Смерти - то есть в попытке определить ей место и оценить ее с точки зрения, отличной от нашей - этот сравнительный подход начинает быть поучительным. Боль перед Небытием и Смертью, похоже, является специфичным для современности явлением. Во всех остальных, не-европейских культурах, то есть в других религиях. Смерть никогда не представляется как абсолютный конец или как Небытие: она считается, скорее, обрядом перехода к другой форме существования. И по этой причине к ней всегда обращаются в связи с символизмом и ритуалами инициации, возрождения или воскрешения. Это не говорит о том, что не-европейцы не испытывают ощущения боли перед Смертью. Эта эмоция, конечно же, присутствует, но не как что-то абсурдное или бесполезное. Напротив, ей придается самое высокое значение, как переживанию, неотделимому от достижения нового уровня существования. Смерть - это Великая Инициация. Но в современном мире Смерть лишается своего религиозного значения. Вот почему она приравнивается к Небытию. А перед Небытием современный человек бессилен.
Давайте отметим, что, когда мы говорим о "современном человеке", его кризисах и обеспокоенности, мы подразумеваем, в первую очередь, человека без веры, не имеющего больше никакой действительной привязанности к иудео-христианству. Для верующего проблема Смерти предстанет в другом ракурсе. Для него Смерть является ритуалом перехода. Но значительная часть современного мира потеряла веру, и для этой части человечества обеспокоенность перед лицом Смерти является болью перед Небытием Я. Мы касаемся лишь этой части современного мира. Именно ее переживания мы пытаемся понять и интерпретировать, располагая ее в другой культурной плоскости.
Следовательно, выглядит так, что обеспокоенность современного человека вызвана и поддерживается открытием Небытия. А что по поводу этой метафизической ситуации сказал бы не-европеец? Давайте поставим себя, прежде всего, в духовное положение архаического человека, человека, который был назван (хотя и неверно) "примитивным". Ему также знакомы муки Смерти. Они связаны с его фундаментальными переживаниями, решающими переживаниями, которое сделали его тем, кем он есть: зрелым, сознательным и ответственным человеком; которые позволили ему уйти из детства, расстаться с матерью и отделить себя от детских комплексов. Муки смерти, переживаемые примитивным человеком - это боль инициации.
И если бы мы смогли преобразовать боль современного человека в переживания и перевести на символический язык примитивного, то могли бы услышать следующее: это - великое инициирующее испытание; это - вхождение в лабиринт или буш, посещаемый демонами или душами предков, в джунгли, соответствующие Преисподней, в иной мир; это - великий страх, парализующий неофита при инициации, когда его заглатывает чудовище и он оказывается во тьме его чрева, когда он ощущает, что его рвут на куски и переваривают для нового возрождения. Мы помним все испытания, которые составляют инициацию юношей в архаических обществах: испытания, неотъемлемые от любой инициации, которые сохранились даже в некоторых греко-восточных мистериях. Мы знаем, что юноши, а часто и девушки, оставляли свои дома и некоторое время - иногда по несколько лет - жили в буше, то есть в другом мире, чтобы завершить свою инициацию. Инициация включает пытки и испытания, достигающие высшей точки в ритуале, символизирующем смерть и воскрешение. Этот последний ритуал - самый ужасный из всех, так как предполагается, что юноша должен быть проглочен чудовищем или погребен заживо, или потеряться в буше, что означает - в Преисподней. Именно с такой точки зрения примитивный человек оценивал бы нашу боль, расширенную до коллективного уровня. Современный мир находится в положении человека, проглоченного чудовищем, борющегося во тьме его чрева; или человека, заблудившегося в дикой местности, или блуждающего в лабиринте, который сам является символом Адского - и поэтому этот человек в муках, он думает, что уже умер и находится на грани смерти, и не видит никакого выхода, кроме как во тьму, Смерть или Небытие.
Все же, в глазах примитивного человека эти страшные переживания обязательны для рождения нового человека. Никакая инициация невозможна без ритуала агонии, смерти и воскрешения. Оцениваемая с точки зрения примитивных религий, боль современного мира является признаком приближающейся гибели, но гибели, необходимой и спасительной, так как за ней последует воскрешение и возможность выйти на новый уровень существования, уровень зрелости и ответственности.
И здесь мы снова встречаем символизм Смерти, точно также, как и тогда, когда рассматривая себя с иной точки зрения, интерпретировали увлечение историографией языком народных мифологий. Но ни у примитивных народов, ни в более высокоразвитых не-европейских цивилизациях мы не находим идеи Небытия, взаимозаменяемой с идеей Смерти. Как мы только что говорили, у христиан и в не-христианских религиях Смерть не приравнивается к идее небытия. Конечно же, Смерть является концом - но концом, за которым сразу же следует новое начало. Человек умирает по отношению к одной форме существования для того, чтобы иметь возможность достичь другую. Смерть представляет собой резкую смену онтологического уровня и в то же самое время ритуал перехода точно так же, как рождение или инициация.
Интересно также посмотреть, как Небытие оценивается религиями и метафизикой Индии, так как проблема Бытия и Небытия справедливо считается особенностью индусской мысли. С индусской точки зрения наш мир и все его насущные и психические переживания считаются более или менее прямым результатом космической иллюзии майя. Не вдаваясь в подробности, давайте вспомним, что "пелена майя" является формулой-образом, выражающей онтологическую нереальность как мира, так и всех человеческих переживаний; мы подчеркиваем онтологическую, так как ни мир, ни человеческие переживания не разделяют абсолютного Бытия. Физический мир и наши человеческие переживания к тому же основаны на всеобщем становлении, на преходящем: следовательно, они являются иллюзорными, так как создаются и разрушаются Временем. Но это не означает, что они не существуют или являются плодами воображения. Мир - не мираж и не иллюзия, в прямом смысле этих слов. Физический мир и мои насущные и психические переживания существуют, но они существуют только во Времени, что по индусскому мнению, означает то, что они не будут существовать завтра или через сто миллионов лет. Следовательно, оцениваемые по шкале абсолютного Бытия мир и все переживания, зависящие от темпоральности, являются иллюзорными. Именно в этом смысле в индусском мировоззрении майя представляет особый вид переживания Ничто, Небытия.
Теперь давайте попробуем, используя в качестве ключа индийскую философию, расшифровать обеспокоенность современного мира. Индийский философ сказал бы, что историзм и экзистенциализм знакомят Европу с диалектикой Майя. Его рассуждения были бы очень похожи на следующие: европейская мысль только что открыла, что человек неизбежно обусловлен не только своей физиологией и наследственностью, но также историей и, прежде всего, своей личной историей. Вот что постоянно держит человека в затруднительном положении, он все время существует в Истории; он является фундаментально историческим существом. И индийский философ добавил бы: это "затруднительное положение" нам знакомо уже длительное время; это иллюзорное существование в майя. И мы называем его иллюзорным именно потому, что оно обусловлено Временем, Историей. Более того, именно по этой самой причине Индия никогда не придавала философского значения Истории. Индия поглощена мыслями о Бытии; а История, созданная становлением, является лишь одной из форм Небытия. Но это не означает, что индийская мысль пренебрегла анализом историчности: ее метафизика и духовные техники давно содержат глубоко утонченный анализ того, что в западной философии сейчас называется "бытие в мире" или "бытие в ситуации": йога, буддизм и Веданта - все они продемонстрировали относительность, а следовательно и нереальность каждой "ситуации, всех "условий". За много столетий до Хайдеггера индийская мысль определила в темпоральности предопределяющее измерение всего существования точно так же, как она предвидела, до Макса или Фрейда, множественную обусловленность всех человеческих переживаний и каждого суждения о мире. Индийские философии, заявив, что человек находится в "рабстве" иллюзии, хотели сказать, что каждое существование неизбежно представляет собой разрыв, отделение от Абсолютного. Когда йог или буддист говорил, что все было страданием, что все является преходящим, это означало "Бытие и время".
Другими словами, открытие историчности, как особой формы существования человека в мире, соответствует тому, что индусы уже давно называют нашим положением в майя. И индийский философ сказал бы, что европейская мысль поняла неустойчивость и парадоксальное положение человека, осознавшего свою темпоральность: его муки исходят из трагического открытия, что человеку суждено умереть, что он, пришедший из Небытия, находится на своем пути в Небытие.
Однако индийский философ был бы все еще озадачен теми заключениями, которые некоторые современные философы выводят из такого открытия. Поняв диалектику майя, индус пытается освободиться от ее иллюзий, в то время как европейцы, похоже, удовлетворяются этим открытием и созданием нигилистического и пессимистического образа мира. Мы не будем обсуждать здесь причины этой тенденции в европейском мышлении. Мы только попытаемся предложить ее на рассмотрение индийскому философу для вынесения суждения. Для индуса в открытии космической иллюзии нет никакого смысла, если за этим не следует поиск абсолютного Бытия. Понятие "майя" бессмысленно без понятия Брахмана. На языке Востока можно сказать, что нет смысла в осознании того, что ты обусловлен, если ты не обращаешься к необусловленному и не ищешь освобождения. Майя - это космическое представление и, в конце концов, иллюзорное, но когда человек понял это, когда он сорвал завесу майя, он предстал перед абсолютным Бытием, перед конечной действительностью. Боль вызывается осознанием нашего шаткого положения и нашей фундаментальной нереальности, но такая осознанность по своей природе не является концом, она лишь помогает нам открыть иллюзию нашего существования в мире. И именно в этот момент приходит второе пробуждение сознания: человек обнаруживает, что Великая Иллюзия, майя, была основана на нашем незнании, то есть на ложном и абсурдном самоотождествлении с космическим становлением и историчностью. В действительности, объясняет индийский философ, наше подлинное "Я" - наш атман, наш пуруша - не имеет никакого отношения к множественным ситуациям нашей истории. "Я" принимает участие в Бытии; атман тождественен Брахману. Для индуса наша боль легко объяснима: мы мучаемся, потому что только что открыли, кто мы есть - не смертные, в абстрактном смысле силлогизма, а умирающие, в процессе умирания, будучи неизбежно пожираемыми Временем.
Индус может хорошо понимать наш страх и обеспокоенность перед тем, что равнозначно открытию нашей собственной смерти. Но какая смерть имеется в виду? - спрашивает он. Смерть нашего не-"я", нашей иллюзорной индивидуальности, а именно - нашей собственной "майя", а не Бытия, которое мы разделяем, не нашего "атман", который бессмертен просто потому, что необусловлен и не темпорален. И тогда индус согласился бы с нами, так как допускает, что боль в лице небытия нашего существования соответственна боли при встрече со Смертью - но он сразу бы добавил, что эта Смерть, которая наполняет вас такой обеспокоенностью, является лишь смертью ваших иллюзий и вашего незнания: за ней последует возрождение через осознание вашей подлинной сущности, вашей истинной формы бытия, необусловленного и свободного бытия. Одним словом, он сказал бы, что именно сознание вашей собственной историчности делает вас обеспокоенными, и это неудивительно: так как для того, чтобы открыть и жить подлинным Бытием, необходимо умереть для Истории.
Легко можно представить, что мог бы ответить европейский исторический философ-экзистенциалист на такую интерпретацию этой обеспокоенности. Он бы сказал: "Вы говорите мне "умереть для Истории", но человек не является и не может являться ничем, кроме Истории, так как сама его сущность является темпоральностью. Затем вы предлагаете мне отказаться от моего подлинного существования и найти убежище в абстракции, в чистом Бытии, в атман. Я должен пожертвовать своим титулом творца Истории для того, чтобы вести не имеющее истории, неподлинное существование, лишенное всякого человеческого содержания; ладно, я предпочитаю смириться с моей обеспокоенностью. По крайней мере, она не может лишить меня определенного героического величия, величия осознания человеческого положения и его принятия".
В мои планы не входит обсуждение этих европейских философский позиций, однако мы должны указать на одно недоразумение, которое искажает западное представление об Индии и индийской духовности. Открытие космической иллюзии и метафизический поиск Бытия вовсе не выражаются абсолютным обесцениванием Жизни или верой во всеобщую бессодержательность. Сейчас мы начинаем понимать, что Индия, вероятно, более чем любая другая цивилизация, любит и почитает Жизнь и наслаждается ею на всех уровнях. Майя не является абсурдной и беспричинной космической иллюзией, она не имеет ничего общего с той нелепостью, которую некоторые европейские философы приписывают человеческому существованию, представляя его возникающим из Небытия и следующим в Небытие. Для индийской мысли майя является божественным творением, космическим представлением, завершением и целью которого являются человеческие переживания а также освобождение от этих переживаний. Из этого следует, что осознание космической иллюзии в Индии не означает открытия того, что все - это Ничто, а просто то, что ни одно переживание в мире или Истории не имеет никакой онтологической вескости, а следовательно, что наше человеческое состояние по своей природе не должно считаться концом. Но когда индус это осознал, он не отошел от мира: если бы он это сделал, то Индия уже давно бы исчезла из Истории, так как концепция майя принимается значительным большинством индусов. Осознание диалектики майя не обязательно ведет к аскетизму и отказу от всего социального и исторического существования. Это состояние осознанности обычно находит свое выражение в совершенно иной позиции; в позиции, раскрываемой Кришной перед Арджуной в "Бхагавадгите", заключающейся в том, чтобы оставаться в этом мире и разделять Историю, но хорошо позаботиться о том, чтобы не приписывать истории никакой абсолютной ценности. "Бхагавадгита" раскрывает перед нами не приглашение отречься от истории, а предостерегает от ее идолизации. Вся индийская мысль настаивает именно на этом положении, заключающемся в том, что состояние неведения и иллюзии является результатом не существования в Истории, а верования в ее онтологическую реальность. Как мы уже говорили, хотя мир и является иллюзорным - так как находится в состоянии постоянного становления - тем не менее, он является божественным творением. Мир действительно священен; но парадоксально то, что человек не может разглядеть этой священности мира, пока не обнаружит, что это божественный спектакль. Незнание, а отсюда обеспокоенность и страдания навсегда сохраняются абсурдной верой в то, что этот непрочный и иллюзорный мир представляет конечную действительность. Сходную диалектику мы находим и в отношении Времени.
Согласно "Майтри-Упанишады", Брахман - абсолютное Существо - в одно и то же время проявляется в двух противоположных аспектах - Времени и Вечности. Незнание заключается в видении только его отрицательного аспекта - его темпоральности. "Неверное действие", как называют его индусы, заключается не в том, чтобы жить во "Времени", а в веровании, что вне Времени ничего не существует. Человек уничтожается Временем и Историей не потому, что живет в них, а потому, что считает их реальными и вследствие этого забывает или недооценивает вечность.
Но мы не будем продолжать эти наблюдения. Наша цель заключалась не в том, чтобы обсудить индийскую метафизику или противопоставить ее европейской философии, а лишь в том, чтобы увидеть, что мог бы сказать индус в отношении нашего современного общества. Немаловажно, что обеспокоенность всегда появляется под символизмом Смерти, рассматриваем ли мы ее с точки зрения архаических культур или индийской духовности. Это означает, что видимая и оцениваемая другими, не-европейцами, наша обеспокоенность раскрывает такое же значение, что и мы, европейцы, уже нашли в ней - приближение Смерти. Но соответствие нашего взгляда на этот вопрос со взглядами других не идет дальше этого, так как для не-европейцев Смерть не является ни окончательной, ни абсурдной. Напротив, обеспокоенность, вызванная приближением смерти, уже является обещанием воскрешения, показывает предчувствие возрождения в другую форму существования, которая превосходит смерть. Снова рассматриваемая с точки зрения примитивных обществ обеспокоенность современного мира может быть приравнена к мукам смерти в инициации: в индийской же перспективе она приравнивается диалектическому моменту открытия майя. Но, как мы только что говорили, в архаической и "примитивной" культуре, также как и в Индии, эта обеспокоенность не является состоянием, в котором человек может остаться. Ее обязательность, - это обязательность инициирующих переживаний, ритуала перехода. Ни в одной культуре, за исключением нашей, человек не может остановиться посреди этого ритуала перехода и обосноваться в положении, не имеющем исхода, так как исход заключается именно в завершении этого обряда перехода и разрешении кризиса выходом из него на более высокий уровень, пробуждая сознание более высокой формы существования. Немыслимо, например, чтобы человек прервал инициирующий обряд перехода: в этом случае мальчик уже не был бы больше ребенком, как до начала инициации, но не был бы и взрослым, каким должен был бы стать по завершении своих испытаний. Мы должны также упомянуть и другую причину современной обеспокоенности - наше смутное предчувствие конца мира или, выражаясь точнее, конца нашего мира, нашей собственной цивилизации. Мы не будем обсуждать, насколько хорошо обоснованным может быть это опасение, достаточно помнить, что оно является далеко не современным открытием. Миф о конце мира имеет всеобщее распространение. Он встречается уже у примитивных народов, все еще находящихся на стадии развития культуры палеолита, таких как австралийцы, и повторяется в великих исторических цивилизациях - вавилонской, индусской, мексиканской и греко-латинской. Это миф о периодическом разрушении и восстановлении миров, космологическая формулировка мифа вечного возвращения. Однако необходимо сразу же добавить, что ужасу конца мира никогда и ни в какой из не-европейских культур не удалось парализовать жизнь и культуру. Ожидание космической катастрофы действительно мучительно, но обеспокоенность интегрируется в религиозном и культурном плане. Конец мира никогда не является абсолютным. За ним всегда следует сотворение нового возрожденного мира, так как для не-европейцев уникальность жизни и души заключается в том, что они никогда окончательно не исчезают.
Сейчас мы должны отложить сравнение с не-европейскими религиями и цивилизациями. Никаких заключений мы делать не будем, так как диалог едва только начался. Однако такое изменение перспективы уже оказалось обнадеживающим. Нам требуется лишь поставить себя на один уровень с архаическими и восточными культурами, чтобы открыть инициирующие значения и духовные ценности обеспокоенности, значимость и ценность мистических и метафизических традиций, хорошо известных некоторым европейцам. Но это равнозначно тому, что сказать: диалог с миром Азии, Африки или Океании помогает нам раскрыть духовные позиции, которые по праву можно считать имеющими всеобщую силу. Это уже не провинциальные формулы, продукты того или иного фрагмента истории, а - осмелимся сказать - Вселенские положения.
Но мы можем задать себе вопрос. Если этот диалог с не-европейскими духовными учениями просто ведет нас к открытию некоторых забытых источников нашего духовного наследия, какой же смысл в том, чтобы удаляться так далеко и обращаться к индусам, африканцам и жителям Океании? Как мы говорили, наш собственный исторический момент обязывает нас понять не-европейские культуры и войти в диалог с их подлинными представителями. Но есть еще кое-что: существует удивительный и утешающий факт, заключающийся в том, что смена духовной перспективы имеет такое же действие, как и основательное возрождение нашего личного существования. Мы предлагаем закончить эту главу еврейским рассказом, который замечательно иллюстрирует мистерию неожиданного открытия. Это история о раввине Эйсике из Кракова, которую обнаружил востоковед Генрих Циммер у Мартина Бубера. Благочестивый раввин Эйсик из Кракова видит сон, в котором ему велят отправиться в Прагу. Там, под большим мостом, идущим к королевскому замку, он найдет спрятанное сокровище. Сон повторился три раза, и раввин решает отправиться в путь. По прибытии в Прагу он находит мост. Но так как днем и ночью мост охраняется часовыми, Эйсик не отваживается копать. Но, продолжая слоняться поблизости, он привлекает внимание капитана стражи, который вежливо спрашивает, не потерял ли он что-нибудь. Раввин простодушно рассказывает ему о своем сне, и офицер разражается смехом. "Право же, несчастный человек," - говорит он, - "ты износил свои ботинки, пройдя весь этот путь лишь из-за сна?" Этот офицер также слышал во сне голос: "Он говорил мне о Кракове, велел отправляться туда и искать великое сокровище в доме раввина по имени Эйсик, сын Иекиль. Сокровище можно найти в заброшенном пыльном углу, за печью." Но офицер совсем не верил в голоса, услышанные во сне. Он оказывается благоразумным человеком. Раввин, глубоко поклонившись, благодарит его и спешит вернуться в Краков. Там он копает в заброшенном углу своего дома и находит сокровище, которое положило конец его бедности.
"Так" - комментирует Г.Циммер, - "подлинное сокровище, которое может положить конец нашей бедности и всем испытаниям, всегда близко; нет необходимости искать его в далекой стране. Оно лежит, захороненное в самых сокровенных уголках нашего собственного дома, то есть нашего собственного существа. Он за печкой, этот центр жизни и тепла, который управляет нашим существованием; это - сердцевина нашего сердца, если бы мы только знали, как отыскать ее. И все же прослеживается удивительный и устойчивый факт, заключающийся в том, что значение внутреннего голоса, направляющего нас в наших поисках, может быть понято нами лишь после набожного путешествия в дальний край. И к этому удивительному и устойчивому факту добавляется еще один: тот, кто раскрывает нам значение нашего таинственного внутреннего паломничества, сам должен быть чужестранцем, иной веры и иной расы".
И в этом заключается глубокое значение любого подлинного неожиданного открытия; оно вполне может быть отправной точкой нового гуманизма на мировом уровне.
Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. - М., 1996, с. 22-60, 268-285.
|